Центр Чтения Красноярского края
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
| Главная | Архив новостей | Открытые книги | Творческая мастерская | Это интересно | Юбилеи | Литература Красноярья | О нас |
Languages 
|
| Похоже, что у поэтов всегда будет много работы
Вислава Шимборска польская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1996 год |
|
Юбилеи 15 марта исполняется 80 лет со дня рождения Валентина
Григорьевича Распутина (р. в 1937г.)
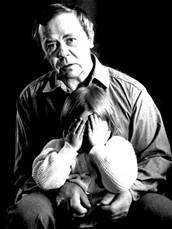
Я с улыбкой смятения всегда смотрел на его рукописи, которые можно было
прочитать только под четырех-пятикратным увеличением, и, дивясь, спрашивал, что
у него со зрением. А он отвечал, что в юности читал в Иркутске через Ангару
“куплю, сдается, продам”, так что неверы ездили за реку, чтобы убедиться —
правда. В этой страшной физической зоркости, за которую он платит теперь
болезнью глаз, было только отражение зоркости духовной.
Валентин
Курбатов
Как бы хотелось призвать к старому нравственному правилу: нельзя мне поступать
дурно, ибо я русский. Когда-нибудь, будем надеяться, русский человек возведет
эти слова в свой главный жизненный принцип и сделает их национальным
путеводством.
Валентин
Распутин. Так создадим же течение встречное.
Выступление
на I съезде Всемирного Русского Народного Собора, 1992. «На рубеже 70-х и
в 70-е годы, - сказано А. И. Солженицыным в при вручении премии Валентину Распутину
4 мая 2000г., - в советской литературе произошёл не сразу замеченный,
беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не
свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так,
как если б никакого “соцреализма” не было объявлено и диктовано, — нейтрализуя
его немо, стала писать в простоте, без какого-либо угождения, каждения
советскому режиму, как позабыв о нём. В большой доле материал этих писателей
был — деревенская жизнь, и сами они выходцы из деревни, от этого (а отчасти и
от снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к
удавшейся вдруг чистоте нового движения) эту группу стали звать деревенщиками.
А правильно было бы назвать их нравственниками — ибо суть их литературного
переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушённая
вымирающая деревня была лишь естественной, наглядной предметностью.
….Первый средь них
— Валентин Распутин…»
В
мировом литературоведении устойчиво бытует мнение о Валентине Распутине как
«писателе прямого и незамедлительного протеста», сумевшего на локальном
материале с огромной художественной убедительностью поставить проблемы
универсального, общечеловеческого и остросоциального, общенационального
значения.
Валентин КУРБАТОВ
о взаимоотношениях В. Астафьева и в. распутина
и художественных параллелях в поздней прозе ПИСАТЕЛЕЙ
Из эссе «Долги наши. Валентин Распутин -
чтение сквозь годы»
…А
больше, кажется, сопротивлялся моей настойчивости, когда я уж очень “вязался” к
нему с наивными инициативами по собиранию разбегающихся писателей. Я пытался
заманить его в Сростки на 65-ю годовщину В.М.Шукшина в 1994 году. Хитрость была
детская. Меня ранило, что разошлись ближайшие и всякому русскому сердцу
одинаково дорогие и в нашем сознании уже неразымаемые, как васнецовские
“богатыри”, Астафьев—Белов—Распутин. И я уговаривал устроителей Шукшинских
встреч послать приглашение каждому порознь, как единственному, что ждет-де
Василий Макарович его (Василия Ивановича, Виктора Петровича, Валентина
Григорьевича) и очень надеется “видеть”. Мне отчего-то казалось, что когда бы
они вышли вместе (а куда бы они делись, раз уж приехали!) к тысячам собравшихся
на пикете людей, то люди бы непременно встали, а может быть, и заплакали, и
почувствовали себя вновь целыми и всесильными.
Хитрость не удалась. Они раскусили ее все, и не поехали. Они уже видели разные
народные правды.
Больше всех попадало от него в переписке Виктору Петровичу Астафьеву — за
неразборчивость средств, за поддакивание тем, кому было поддакивать грех. Я,
как умел, защищал Виктора Петровича, потому что любил его и знал, с чего он
“заводился”. Да только ведь и Валентин Григорьевич любил Астафьева и потому так
жестко и спрашивал — правду он уступать не умел. (“..если поживем еще, то и
сойдемся с Астафьевым. Но делать это придется заново, потому что того Виктора
Петровича, которого я знал, у которого немало взял и который, как человек и как
талант, был целен и здоров, того Астафьева уже нет. “Не сотвори из себя кумира”
— вот какую заповедь он запамятовал”, 7.08.95.) В такие часы мы порой стояли на
опасной черте разрыва, но ни разу не переступили ее. И я опять и опять
простодушно манил его и Белова в Овсянку, надеясь, что, может быть, скорее
поправит положение общее дело — “Литературные встречи в русской провинции”,
которые Виктор Петрович затевал там, чтобы противостоять расхождению писателей.
Он отказывался. (“Ох, боюсь я, как бы из примирения не вышло противление.
Белов, я думаю, не поедет. Провода-то оголены и с той, и с другой стороны. Все,
в конце концов, можно отбросить, но не утерпит один, а затем другой…”,
15.04.96.)
/…/
В февральском
письме 2003 года из Малеевки мелькнула, как обычно, беглая строчка: “Закончил
вчерне повесть, но буду ли ее печатать, пока не знаю”. Хочет дать ей полежать,
а уж потом решить: печатать ли?
Теперь мы ее прочитали и сомнение его понимаем. Есть правды, которые хочется
утаить, о которых, кажется, милосерднее промолчать, пощадить читателя. Не
зажигай света и не увидишь чудовищ ночи, но тогда они постепенно вытеснят и сам
день.
Не кинулись мы вместе с Сеней (“Нежданно-негаданно”) на защиту на глазах
уводимой во тьму детской жизни, не вскинулись с ужасом всей страной — пожалуйте
продолжение. Нас ждала последняя пока — может быть, самая страшная у Распутина
повесть “Мать Ивана, дочь Ивана”.
…В самую мучительную, самую последнюю, гибельную минуту допроса ее истерзанной
дочери, когда уж и голоса своего нет, Тамара Ивановна слышит, как в ней что-то
отдельное наговаривает: “Ничего, ничего… Это ничего… Это к нам. Принимайте
гостей… Мы гостям завсегда рады… Мы ничего… Мы такие…”
Как это невыносимо угадано Распутиным в этой страшной повести! Он ведь и в нас
бьется, этот отдельный голос. Вроде бы и проклясть надо обезумевший, потерявший
себя мир, где зло перешло всякие границы, а душа иронически кривится: да кого
проклинать-то? Сами и приготовили место новому дню, как жестокому гостю. Не
скажешь, что не ждали. Давно решетками на окнах и железными дверями
загородились, на добровольную тюрьму себя обрекли. Значит, видели уже, что на
улицу нельзя выходить, что там зло раскинулось на полсвета — его это вотчина.
Зачем же это именно ей, ее семье такое испытание? Жили честнее других, себя не
роняли. Ведь и мы так же и это же закричим (Господи, не дай никому в мире
пережить то, что пережили герои повести!), и только “гости-то” уж поняли, что
“мы — ничего, мы такие” и нас можно убивать на улицах, никто не кинется
спасать, можно унижать “поштучно и оптом”. Но пока не лично тебя, можно и
отвернуться, отделаться вздохом — “ничего”...
Вот и я когда-то, прочитав “Печальный детектив” и “Людочку” В.П.Астафьева и
надорвавшись сердцем, тоже все пытался защититься, что художник “перетемнил
мир”, что Господень мир милосерднее, что писатель только “не доглядел”
уравновешивающего света. Вместо того чтобы биться вместе с художником, душу
свою пустился оберегать, свет загораживать, выговаривать Виктору Петровичу за
ожесточение. (Валентин Григорьевич тогда был с Астафьевым: “Есть времена, когда
и на крик и на мат готов сорваться, лишь бы услышали. Лишь бы что-то поняли, вздрогнули
и отшатнулись. Это разговор не с изысканной публикой, а с уличной,
необходимость ткнуть ее носом в грязь, в которой она живет, отвыкая от
понимания, что это грязь”, 9.4.86.) А мне все мерещился перебор тьмы. А оно вон
как обернулось. Теперь тогдашнее астафьевское зло уж будто и не зло, а только
увертюра к тому, что начнется и что напишет окровавленным сердцем Распутин. И я
будто прямо себе в ответ на то давнее письмо Астафьеву о равновесии (словно
Валентин Григорьевич за плечом стоял) прочитаю в повести: “Всегда казалось само
собой разумеющимся, заложенным в основание человеческой жизни, что мир устроен
равновесно и сколько в нем страдания, столько и утешения. Сколько белого дня,
столько и черной ночи. Вся жизненная дорога выстилается преодолением одного и
достижением другого. Одни плачут тяжелыми, хлынувшими из потаенных недр
слезами, другие забывчиво и счастливо смеются, выплескиваясь радужными волнами
на недалекий берег. Да, впереди всегда маячил твердый берег, и в любом крушении
всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный
берег куда-то пропал, уплыл, как мираж, отодвинулся в бесконечные дали, и люди
теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы. Исподволь,
неслышным перетеканием, переместились горизонты восхода и заката солнца, и все,
что подчинялось первичному ходу тепла и света, неуклюже и растерянно
оборотилось противоположной стороной”.
Словно и сам “первичный ход света” прервался. Да ведь так и есть — прервался.
Вчитайтесь-ка в повесть-то. Хотя ее и один раз прочитать — много надо сил.
После десятка страниц откладываешь и мечешься — места себе не находишь. Была бы
река под боком, лес, так — к реке бы бросился, к небу, дереву. А так кинешься к
окну, а там только что описанный мир. А каково было писателю месяц за месяцем
держать в себе эту тоску насилия и опустошения? Но Распутин и раньше себя, как
Виктор Петрович Астафьев, мало берег, поднимая самые ранящие проблемы, которые
умом не возьмешь, — им все сердце отдай и в “Последнем сроке”, и в “Прощании с
Матёрой”, и в “Пожаре”. А тут и еще больнее. Тут уж пожар-то во всю землю. И
опять, как всегда, у него — на земных, женских, слабых, всесильных плечах.
/…/
Он умирал вместе с Анной, уходил под воду с Дарьей, погибал с Настеной, брал
обрез с Тамарой Ивановной. Он знал мужество скорби и одиночество смерти и
всегда был тем, что есть, с нерушимой кристаллической решеткой. Как будто стоял
прямо в сердце жизни, а не общества, политики, истории. Жизни, как первоосновы
всякой судьбы — человеческой, общественной, исторической. И потому и выбирал в
героини женщин, которых не обманешь хотя бы и очень высокими политическими
целями, что они сами — Жизнь в ее родовой вечности, чьи законы просты и
величественны и чьей правды не переступишь.
/…/
Оглядываясь сейчас напоследок, в его творчестве, в его святых героинях я вижу,
что, нимало не думая о такой гордости, а только стоя в сердце жизни, он
простился не с веком даже, а с тысячелетием, до ниточки высмотрев то святое,
высшее, крепительное, чем жила родная Россия, которая никогда не была для него
отвлеченностью, а была в разное время Анной, Дарьей, Настеной, Тамарой
Ивановной — всегда именем, жизнью, долей и правдой. Всегда любовью и верой.
По книгам:
|